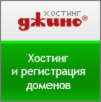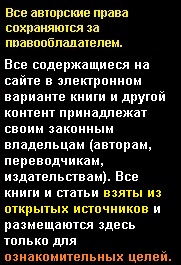Российский писатель-фантаст Дмитрий Глуховский работает над новым романом «Будущее». Выход фантастического романа запланирован на осень этого года. Отрывок из романа, по разрешению автора, опубликован на странице дневника Никиты Аверина (piterhandra).
| СКАЧАТЬ книгу - Дмитрий Глуховский - БУДУЩЕЕ |
Сайт нового книжного проекта: http://пробудущее.рф
Т.С.
Дмитрий Глуховский. Отрывок из романа Будущее.
***
Они будят меня поздно ночью.
- Вставай! Испытание!
Проснуться трудно. Сонная таблетка, которую я проглотил три часа назад, продолжает плыть, кружиться где-то во мне.
Мне она представляется каракатицей, которая, прыгнув мне в рот, выпустила в мою кровь чернильное облако.
Мне предстоит испытание, говорю я себе, чтобы проснуться. Испытание, которого я ждал столько лет, которое решит мою жизнь.
Но через мой оцепеневший мозг медленно течет кровь, настоянная на черном дурмане, и вместо того, чтобы встрепенуться, он рисует мне каракатицу, которая повисла за стеклом огромного аквариума и глядит на меня оттуда. Глаза у нее человеческие, светло-карие.
- Что снилось?
- Не помню.
Мне ничего не снилось: таблетка рассчитана на восемь часов пустого забытья. Таблетки дают на ночь каждому. Но есть те, кто их не пьет. Хитрит или боится. А мне с ними спокойнее.
Когда спишь в капсуле, лучше без снов. А в капсуле спишь всегда.
От снов случаются непроизвольные движения, пульс учащается, расход воздуха растет. Капсула – два метра длиной, полметра в ширину и пол – в высоту. Стенки мягкие, но в ней лучше все равно не дергаться. К тому же, у капсул есть уши, а те, кто спит без таблеток, болтают во сне. Нет, с таблетками надежней. Таблетка для сна, таблетка для безмятежности.
Выбираюсь из капсулы, и она скользит в свою круглую нишу. Как будто какое-то огромное существо втягивает высунутый язык, прикрывает пасть. А пастей этих у него тысяча – вся стена в крышках капсул. Сто рядом в длину, десять – в высоту. Шкаф с сотнями спящих людей. Так в историческом кино выглядят банковские ячейки.
Или морг.
Смешно.
Вообще, с таблетками раньше времени будить нельзя. Поездка на лифте в черноту должна длиться ровно восемь часов, и если лифт застрянет где-то на полпути между уровнями, выходить некуда. Руки – слабые, ноги – чужие. С чужими ногами мне будет непросто пройти испытание. И что со мной тогда будет? Просто исчезну?
Мы никогда не знаем, кто выдержал его, а кто провалил: и те, и другие навсегда пропадают из лагеря. Известно, что те, кто прошел испытание, выполняют наше предназначение, становятся тем, кем мы готовились стать, а остальные… Не знаю, что с ними происходит. Никто не говорит. И никто не спрашивает.
Просто твое место освободится. В твою капсулу переведут новичка. Дадут ему твой номер. Он будет вместо тебя в твоей десятке, за твоим столом, будет учиться в твоих группах с твоими однокашниками… Те, может, сначала потравят его, пока привыкнут, но недолго. Он-то ни в чем не виноват. Не он же тебя сожрал.
Просто в твоей жизни наступает новый этап. Потому что ты дорос.
А они остаются на старом.
- Волнуешься?
- Нет.
Если бы не таблетка, меня бы сейчас трясло от страха. Дорос – не значит, что готов. Никто не может быть уверен, что готов к испытанию, потому что никто не знает, в чем оно заключается. Но вместо того, чтобы думать о нем, я думаю об аквариуме. Я нырнул в аквариум к каракатице и теперь оттуда наблюдаю за своей жизнью. Вода густая и не пускает меня двигаться быстро; она мутная и видно через нее плохо.
И слышно все еле-еле, как и положено сквозь жидкость, как если, например, в бассейне выдохнуть из легких весь воздух, стать тяжелей воды, лечь на дно и пытаться вслушиваться в разговоры тех, кто находится снаружи. Интересно.
- О чем думаешь? – спрашивает вожатый.
- Ни о чем.
Рядом со мной стена выстреливает другим своим языком, и еще одним. Из капсул, ворочаясь, жмурясь, выбираются Семнадцатый и Сорок Пятый. Семнадцатый – огромный, почти двухметровый, с длинным лицом, в котором со всеми чертами перестарались. В своем чернильном полусне я представляю себе, что Семнадцатого вылепили из гипса. Начали лепить нос – получился слишком большим, и таким застыл. Пришлось рот прорезать под стать ему – но и тут перестарались, а переделывать поздно. Челюсть сделали тяжелой, чтобы рот уместился, а лоб – высоким, чтобы та не перевешивала. Пока в печали раздумывали, не переделать ли, Семнадцатый соскочил и поковылял, загребая своими ножищами. Криворукому дебилу, который лепил Семнадцатого, поставили незачет, а учитель зачерпнул оставшейся глины и сваял из нее Сорок Пятого – показал, как надо. Сорок Пятый идеален. Все пропорции у него, как у античных статуй в музеях. Рельефная мускулатура. Породистое лицо. Этого делали по учебнику. Только вот оказалось, что кое-как сляпанный гигант Семнадцатый наделен избыточной силой, хитрым умом и страстью жить, а в Сорок Пятого, в статное изваяние, забыли вдуть душу. Потом уже – постфактум – чтобы не выбрасывать – решили напичкать статую механизмами, моторчиками, а вместо души впаяли ей искусственный интеллект.
Поэтому с Семнадцатым можно дружить, а с Сорок Пятым – играть в шахматы. Получается, что от Сорок Пятого толку больше, потому что дружить в лагере ни с кем не рекомендуется. Лучше даже ни к кому и не привыкать.
Вожатый ставит меня к стене, справа от меня – Сорок Пятого, еще правей – Семнадцатого. По росту. С ростом у меня не очень.
Я медленно, чтобы не расплескать весь аквариум, поворачиваю голову вправо. Сорок Пятый уже готов, встречает мой взгляд. Отменная реакция. Он-то не пил таблеток. Глаза у него красные. Спросонья. Поверх его головы на меня глядит Семнадцатый. Он, думаю, вообще не спал.
- Говорят, они запирают пятерых выпускников в одной комнате, и выпускают только одного. Того, кто останется в живых, – с неуверенным смешком сообщает Семнадцатый.
- Кто говорит? – уточняет Сорок Пятый. Голос ровный, приятный, без особых примет, в нем не слышно человека. С обладателем такого голоса откровенничать страшно. И даже сплетничать не стоит.
- Говорят, они опускают человека в аквариум, где плавают каракатицы. Те выпускают свои чернила, и чернилами надо написать свое имя, – вставляю я серьезно.
- Нам не положено имен, – возражает Сорок Пятый.
Семнадцатый улыбается мне поверх его головы.
- Но ты же свое помнишь? – спрашиваю его я. – А то еще провалишь испытание.
- Ты несешь ересь, – спокойно говорит он. – И несмешную. Это должен быть тест на интеллект. Возможно, проходит действительно только один из пяти, но тут мне переживать нечего.
- Не вовремя ты научился переживать.
К нам подводят еще двоих.
Двести Двадцатый – рослый и мордатый, с короткими курчавыми волосами. Он весь взмок, под глазами – синяки. Его ставят между Семнадцатым и Сорок Пятым.
- Страшно? – мягко, неживым голосом бытового прибора спрашивает его Сорок Пятый.
- Да пошел ты! – огрызается тот.
Последний в пятерке – Пятьсот Третий. Мелкий, жилистый, весь перекрученный снаружи и изнутри, связанный из жгутов, злой и готовый ко всему.
Я слышал, они загоняют всех в одну комнату, – шепчет он. – А выпускают наружу только одного. Того, кто всех перегрызет.
Шепот у него жаркий, предвкушающий. Он тоже улыбается – но если Семнадцатый улыбался глупости такого испытания, то Пятьсот Третий радуется ему, как спортсмен.
- Страшно, – сам себе признается курчавый Двести Двадцатый.
Через несколько минут нам прикажут выдавливать друг другу глаза, или голосованием выбрать среди нас одного для казни, казнить его и выбирать следующего, или играть в крестики-нолики, или отказаться от бессмертия, или решать логические задачи, или совокупляться на полу. Ясное дело, им страшно.
А меня больше занимает каракатица с золотистыми человеческими глазами.
Вожатый выравнивает строй.
- Сегодня решится судьба каждого из вас, – говорит он скрипуче. – Вы пришли к нам, потому что вам больше было некуда идти. Потому что во всем остальном мире для вас больше не нашлось места. Лагерь принял вас, хотя никто тут ничем не был вам обязан. Лагерь – не государственное учреждение и не богадельня. И за все те годы, которые вас тут кормили, поили, учили, за тот кров, который вы получили – вы должны ему. Ваш долг не измерить деньгами. Поэтому отдавать его придется другим. Служением.
Все молчат, и даже я молчу. Возможно, слова вожатого будут единственным ключом к тому, чтобы выдержать.
- За эти годы вас научили многому. Но испытание – это не выпускной экзамен. Оно не для того, чтобы узнать, хорошо ли вы делали уроки. Испытание – проверка на зрелость. Проверка на вашу пригодность той службе, которой лучшие из вас посвятят себя.
- Скажите нам, чего ждать! – Двести Двадцатый дает петуха. – Вы должны были подготовить нас!
- К испытанию нельзя подготовить, – усмехается вожатый. – И повторю. Вам не должны ничего. В долгу – вы. Если сумеете выдержать – будете отдавать его всегда; не сумеете…
Он пожимает плечами. Его глаза посажены так глубоко, что в прорезях белой маски их почти не видно; кажется, что их там вообще нет. Двести Двадцатый вскидывает подбородок, хочет встретиться с вожатым взглядами – а вместо этого спотыкается и падает в колодец прорезей, в бездонные глазницы маски. Собирался спорить – и затыкается. Только бурчит себе что-то под нос.
 - И поскольку лагерь не принадлежит государству, – убедившись, что Двести Двадцатый не заговорит, продолжает вожатый. – За вашу жизнь отвечаете только вы. Если что-то произойдет, все будет списано на несчастный случай. Это ясно?
- И поскольку лагерь не принадлежит государству, – убедившись, что Двести Двадцатый не заговорит, продолжает вожатый. – За вашу жизнь отвечаете только вы. Если что-то произойдет, все будет списано на несчастный случай. Это ясно?
Каждый из нас кивает.
- Идите за мной, – говорит вожатый.
И мы цепью следуем за ним – мимо рядов капсул-саркофагов, вмурованных в одну из гладких хромированных стен. Внутри спят те, кто пока не созрел для испытания. Перед нами раздвигаются бесшумно прозрачные двери.
Перед тем, как войти в прозрачные двери шлюза, я притрагиваюсь к крышке крайней из капсул.
- Это зачем? – настороженно спрашивает вожатый.
- Небось, дружок его… Жарились, а? – подмигивает Пятьсот Третий. – Прости-прощай, первая любовь…
- Я на таблетках безмятежности, – равнодушно отвечаю я ему. – Любовь это для таких зверьков, как ты.
- Кас-тра-ат… – шипит мне Пятьсот Третий.
- Заткнуться! – вожатый коротко замахивается и лепит ему пощечину. – Так в чем дело, Семьсот Семнадцатый?
- Еще не отошел от снотворного, – объясняю я. – Шатает… Схватился.
Вожатый поворачивает ко мне свои пустые глазницы. Смотреть в них неловко, хочется отвести взгляд; но наука врать учит всегда смотреть в глаза – спокойно, смаргивая не чаще раза в три секунды, но и не реже, чем раз в пять. В чем-в чем, а в этом искусстве я поднаторел. И пусть я не вижу его глаз, скорее всего, они там.
- Что ты чувствуешь? – почти тепло спрашивает вожатый.
Сейчас он считает, сколько раз я моргаю, следит за тем, даю ли я волю своим тикам, по вздыманию грудной клетки определяет частоту дыхания и сердцебиение.
- Ничего не чувствую, – отзываюсь я.
Он удовлетворенно треплет меня по плечу.
Ко мне оборачивается Сорок Пятый. Наверное, ничего – это именно то, что он чувствует всегда.
- Зря ты вчера снотворное пил, – почти отечески говорит мне вожатый сегодня. – Совсем ничего?
- Совсем, – повторяю я, вежливо улыбаясь.
И смотрю мимо него на грандиозный шкаф, стерильный, блестящий, в утробе которого хранятся, разложенные по ячейкам, сотни спящих людей.
Мне грустно.
Я вижу свой дом в последний раз.
Башня, в которой находится лагерь – это целый мир, и тем, кто тут живет, другого мира не дано. Мы знаем, что он есть, что он находится где-то за ее наружными стенами. Но мы не знаем, какие из стен башен – наружные, до того она велика. В ней гораздо больше места, чем может потребоваться среднему человеку, чтобы прожить всю свою жизнь.
Меня вдавливает в пол: лифт рвется вверх. Мне неизвестно, сколько всего уровней в башне – тот подъемник, которым было разрешено пользоваться нам, перемещался лишь между десятью этажами. Но, говорят, были и другие лифты – такие, что ныряли на десятки уровней вниз, и такие, что поднимались чуть ли не на сотню этажей выше нашего предела.
Двери разъезжаются, и мы попадаем в круглое шарообразное помещение. Его стены – экраны, на них – захватывающий дух горный пейзаж, возможно, сферическая трансляция живой картинки откуда-то с Гималаев. Не знаю, впрочем, не застроили ли еще Гималаи… Возможно, это многочасовая сферическая видеозапись, сделанная в Гималаях лет триста назад, и теперь зацикленная в бесконечность на этих экранах. Прямая трансляция из мира трехсотлетней давности.
Под стать и оформление: тот лифт, из которого мы вышли, как бы устроен в горной пещере. Пол помещения выглядит как круглая смотровая площадка. Напротив нас – еще один подъемник, якобы стеклянный, чья прозрачная шахта уходит в необозримую небесную перспективу. У лифта на небо нас ждет другой человек, впрочем, совершенно неотличимый от нашего вожатого.
- Пресвятая… – забывшись, восхищенно шепчет Двести Двадцатый и тут же спохватывается, надеясь, что его не слышали.
Но его слышали – я, Сорок Пятый и Пятьсот Третий. Я отворачиваюсь – мне все равно, во что верит Двести Двадцатый, как и все равно, мастурбирует ли он. Но Пятьсот Третий торжествует так, словно поймал Двести Двадцатого со спущенными штанами.
- Пресвятая кто? – громко интересуется он. – Кто Пресвятая, а, Два-Два-Ноль? Богородица, может?
- Заткнись, – краснеет Двести Двадцатый. – Или я…
- Правила не допускают служения устаревшим культам, – вмешивается Сорок Пятый. – Это пережиток.
Он любит правила. Человеку вообще свойственно любить, хотя это тоже пережиток.
- Может быть, рановато тебя выдвинули на испытание? – щерится, отскакивая, Пятьсот Третий.
- Заткнись, тварь! – Двести Двадцатый теряет самообладание, вцепляется Пятьсот Третьему в глотку. – Ты не смеешь!..
Семьдесят Первый оказывается между ними, раздирает их, уже слипшихся в единый ком, своими ручищами, расталкивает в стороны.
- Хватит! – басит он. – Сейчас нас всех из-за вас…
- Вожатый! – зовет Сорок Пятый. – Нарушение правил!
- Я тебя достану… – бешено хрипит Двести Двадцатый.
- Не успеешь… – шипит ему Пятьсот Третий. – Если испытание – это бой, я тебя…
Но вожатый, выведя нас на смотровую площадку, теряет к нам всякий интерес.
- Это больше не моя забота, – говорит он. – Теперь вами занимаются другие.
Он отступает в доставившую нас кабину и проваливается в ней на низшие уровни. Одновременно распахиваются двери лифта напротив – и из него выходит человек, неотличимый от нашего вожатого. На нем такая же маска и такое же трико.
От Сорок Пятого с его скучными доносами человек отмахивается, как от мухи. Стоило бы догадаться, что на небесах доносят и клевещут о чем-то поважней и позанимательнее.
- Вас ждут, – он жестом приглашает всех нас в лифт…